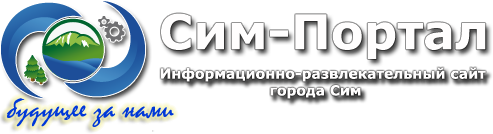Вирус революции запрятан внутри нас
Уже сложилась у нас такая традиция – осенью вспоминать о революции. Вот мы и вспомнили – вместе с ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН доктором исторических наук Владимиром Булдаковым, который написал статью «Революция как проблема российской истории».
Три года назад еще написал, а ее хоть сейчас можно разбирать на цитаты и развешивать в виде баннеров: «Россия по-прежнему чревата смутой», «Любой революции всегда предшествует психопатологическое состояние общества». Каким образом человек смог предугадать все наши последующие «снежно-болотные» марши?
Встретиться с ним решили в месте знаковом – в Музее современной истории России (бывшем Музее революции), в зале, посвященном 1917 году. Слава богу, там все пока на месте – и бюст Ильича, и кожаная тужурка Свердлова. А то вон троллейбус, иллюстрировавший героизм защитников «Белого дома» в августе 1991-го, от главного входа куда-то испарился. Так что теперь и не понять – то ли путча у нас вовсе не было, то ли отношение к нему изменилось.
– Что три года назад, когда мы, как говорится, еще ни сном ни духом, подсказало вам, что революционные настроения вернутся в Россию?
– Ни три года назад, ни двадцать я не пытался быть пророком и тем более предсказывать новую революцию. Просто старался понять логику нашей истории, взаимоотношений власти и народа. Почему у нас периодически случаются столь масштабные «смуты», точнее – системные кризисы?
Правда, видим мы их по-разному. Почему совсем недавно считали события 1917 года победоносной революцией, а теперь – катастрофой? Причина проста. Всякий предмет с изменением угла зрения меняет свою конфигурацию. Нечто подобное случается и с историческими событиями: со временем они предстают в ином свете. Пережив очередную революцию, мы увидели предыдущую совершенно иначе – как своего рода антипод современности. Это закономерно. Революция начала ХХ века породила грандиозный миф. Со временем этот миф выдохся, истощился. Его стал вытеснять иной миф – в данном случае зеркально противоположный. Такова особенность исторического сознания.
Наше представление об истории и себе непрерывно меняется. Мир зависим от прогресса технологий, сознание – от информационных революций. Если раньше книжки о прошлом писали высоколобые и добросовестные ученые-архивисты, то сейчас свои поверхностные мысли может выложить в Интернет любой избыточно эмоциональный человек. Если историк апеллирует к разуму, то профан ориентирован на эмоции, собственные и чужие. Возникла особая прослойка сочиняющих людей, разменивающих трагедии прошлого на балаганную культуру современности. Кстати сказать, по такой же приблизительно схеме происходит назревание всякой революции: наши представления о мире становятся сумбурными – и тогда возникнет новый, более удобный миф. В таких условиях задача историка – показать, в каких рамках развивались события, в том числе и под влиянием людской одури. В известной мере это относится и к современности.
Мы, однако, не самые глупые. Скорее наоборот
– Это только мы, русские, такой особенный народ, который об истории говорит с надрывом?
– Любые народы в известные времена воспринимают свое прошлое особенно эмоционально – сегодня такое состояние, к примеру, переживает арабский мир. Напротив, всякое современное «стабильное» общество словно забывает свое прошлое. Оно им ни к чему, они живут в комфортном настоящем. У нас же все настолько неустойчиво, что из этого состояния мучительно хочется выбраться на социальную твердь. В результате мы барахтаемся в собственных эмоциях, в том числе и применительно к истории.
– То есть мы ищем в прошлом ответы на вопросы, которые актуальны для нас сейчас?
– Естественно. При этом наше положение усугубляется ситуацией безверия. Мусульманам, к примеру, проще – у них есть Коран. Он предлагает так называемую ортопраксическую веру, которая служит непосредственным путеводителем по жизни: то, что по Корану, – нормально, то, что не соответствует ему, – от дьявола. Поэтому мусульманские общества столь сдержанны по отношению к своей власти и столь же несдержанны по отношению к чужому внешнему миру.
Прошлое для нас имеет сегодня особое значение. Мы не случайно празднуем окончание Смутного времени, победу над Наполеоном, 1150-летие российской государственности. Тем самым будто пытаемся убедить себя, что наша государственность переживет любой кризис, создаем иллюзию стабильности. Надо же верить, что в этом мире есть хоть что-то надежное и устойчивое.
– 1150 лет государственности, говорите? А Дмитрий Медведев, поздравляя россиян в новогоднюю ночь, сказал: «Россия – государство молодое. Нам 20 лет». Вы, как историк, как на это отреагировали?
– Эмоций историка не хватит на все высказывания политиков… Он, вероятно, имел в виду, что «демократическая» Россия молода в сравнении с Европой, которая, между прочим, была наследницей античности. Или, скажем, моложе китайской цивилизации. Историческая Россия возникла на голом месте, в результате странноватого феномена призвания варягов…
– Надо заметить, этот феномен потом повторялся еще не раз – и при Петре Первом, и при Екатерине Второй. А привлечение американских советников, которые в начале 90-х, по сути, правили российской экономикой, – разве не являлось тем же самым вариантом призвания варягов?
– Я мог бы продолжить примеры. Начиная с самых своих истоков Россия испытывала нужду во внешнем управлении – так, если верить легенде, с помощью Рюрика ей удалось выбраться из доморощенной смуты. Потребность в руководящей высшей независимой силе существует всегда и везде. Но в России поиск себя концентрировался не столько вокруг веры, сколько вокруг представлений об идеальной власти. Мы упорно верим в совершенную государственность, которой в природе не бывает.
– То есть мы романтики?
– В нас много избыточных эмоций. Мы все время стремимся к идеалу. Это, если хотите, показатель незавершенности идентификационного процесса. А потому не можем понять, кто мы в нашем прошлом и настоящем.
– В этом и состоит загадка русской души?
– Я особых загадок не вижу. Есть особенности. Мы – не самые дурные, не самые глупые.
Системные кризисы – вовсе не следствие и свидетельство врожденной российской дури. Скорее наоборот. Все цивилизации строились людьми дисциплинированными и даже ограниченными, способными не задаваться вечными вопросами. На этом фоне россиянин выглядит «избыточно талантливым», предпочитающим некий запредельный идеал земной упорядоченности.
Думать некогда или не получается
– В русском национальном характере присутствует ген бунтарства?
– Вопрос непростой. Одно дело – индивидуальное бунтарство. Другое – бунтарство коллективное, особенно в России. Мы жили в очень разреженном социально-информационном пространстве. Нам практически невозможно было вести устойчивый диалог и друг с другом, и с властью, что превращалось в вынужденное социальное молчание. Недовольство аккумулируется, люди терпят, потом взрываются.
– Вы говорите сейчас о нашем поколении? Или о всех предыдущих?
– Я имею в виду и тех и других, хотя каждое поколение ведет себя по-своему. Обратимся к началу ХХ века, истокам Первой мировой войны. Историки до сих пор гадают о ее причинах. Между тем стоило бы обратить особое внимание на социально-демографические факторы. Во всем европейском мире со второй половины XIX века происходил невиданный рост народонаселения и вместе с тем колоссальный прогресс технологий, в том числе информационных.
Социальная среда стала более агрессивной, общественное нетерпение соединилось с иллюзиями машинного всесилия человека. Результат – взрыв европейской цивилизации. В России положение усугублялось так называемым обезземеливанием крестьянства. При крайне низкой агротехнике земли в центре России уже не хватало. Крестьяне начинают бунтовать. Первая русская революция была вполне предсказуема. Революции 1917 года тоже: было ясно, что, если Россия вступит в новую мировую войну, все пойдет по сценарию революции 1905 года, только с гораздо худшим результатом. Народное бунтарство стало спонтанной реакцией на нераспознанные объективные процессы.
Эмоций у нас вообще переизбыток. Причина в том, что мы представляем собой современное общество скорее внешне, оставаясь на деле сообществом архаичных социумов. А где архаика, там эмоции, взывающие к своей власти.
– Цитирую к месту один из ваших выводов: «Смирение и бунт – таковы слагаемые российского типа революционализма». А где же, спрашивается, разум?
– Разум слишком часто подавляется страстями. Конечно, рационально пытались мыслить и революционеры, и те, кто пытался их сдержать. Но этого в нашем разобщенном – как естественным путем, так и усилиями бюрократии – социальном пространстве для сдерживания деструктивных процессов недостаточно.
– Но почему вы считаете творческую составляющую народа – эмоции, воображение – очевидным минусом?
– Дело в количестве страстей и их направленности. Для всех архаичных социумов характерен традиционный тип сознания, который работает на сохранение, а не на развитие. Если происходит что-то дурное – виновата нечистая сила, способная пробраться и во власть. Что бы ни произошло – виноват враг. Винить себя мы не привыкли в силу своей социальной несамостоятельности. У нас общества, как на Западе, никогда не было. Мы всегда полагались то ли на барина, то ли на государство. С Богом отношения тоже были достаточно сложные, недаром говорили: «На Бога надейся, но сам не плошай». Единственное, что греет, – надежда на то, что кто-то выведет на верную дорогу.
Сил для новых территорий не хватает
– Цитирую вас же: «Проблема России – в ее территории». По-вашему, любой факт потери земель является для России прогрессивным шагом? А любые правители, которые этому способствовали, – прогрессивными правителями? Хрущев, например. Или Горбачев…
– Иван Грозный был против того, чтобы бравые казаки ходили за Урал. А царь Алексей Михайлович долго думал и совещался с боярами относительно присоединения Правобережной Украины. Всякое расширение территории усложняет управление, причем усложняет качественно. К тому же на
Правобережной Украине и вера была другая – там пользовались более современным переводом Библии. А у нас был старый. Отсюда и раскол – некоторые исследователи не без основания считают его постоянным нашим спутником. Всякое изменение пространства, именуемого Россией, чревато серьезными изменениями внутри него.
– Не важно в какую сторону – увеличения или уменьшения?
– Может показаться, что, если уменьшится территория, управлять будет проще. Я в этом не уверен. Я не думаю, что наша территория – наше бедствие. Хотя многие считали и считают именно так. При должном управлении, при опоре на креативный класс все это необъятное пространство можно возделать и превратить в нечто вполне приемлемое. Разумное использование вновь появляющихся ресурсов открывает новые перспективы. Другое дело – есть ли у нас силы, чтобы это богатство рационально использовать? Пока этого незаметно.
– Размер территории влияет на национальный характер?
– Большие пространства – это непредсказуемость, то, чего человек всегда страшится. Во времена Екатерины для того, чтобы добраться до Камчатки, уходило несколько лет. Однажды она повелела доставить оттуда к трону «девок покраше» – привезли уже баб с детьми… Большая территория, размытые границы – это всегда неопределенность, которую человек не любит. В Европе в свое время тоже было непросто, но люди научились договариваться.
Результат – объединенная Европа. Пусть не лучший результат, но от войн и конфликтов там избавились. Большие пространства порождают ощущение перманентной опасности извне. Это используется государством для укрепления своего авторитета в качестве единственного защитника. Но всякий авторитет не вечен.
– Вы именно это имели в виду, говоря о «больных империях»?
– Не совсем. Лев Гумилев в свое время высказал мысль, что всякая империя существует 1000 – 1100 лет. Я придерживаюсь несколько иной точки зрения: империя – это культура, живой организм. Как только она обретает застывшие формы, начинается упадок. Все империи стареют или вовремя качественно трансформируются.
– Но разве Россия до сих пор считается империей?
– В науке понятие империи так и не устоялось. Некоторые говорят, что это просто большая страна. С чем связано понятие империи? С разнообразием народов, ее населяющих? С размерами территорией, колониями? С фигурой императора? Если исходить из критериев ХХ века, то империи старого типа рухнули. Но возникают другие. Мы говорим о нынешних США как об империи – по возможностям и претензиям. Это не просто большая страна, это определенный тип самоутверждения в пространстве и времени. И в этом смысле я бы не стал говорить, что Россия уже не империя. Мы скорее ослабевшая империя, чем демократическая нация-государство.
– То, что Россия и демократия несовместимы, стало уже аксиомой.
– А что такое демократия? Власть народа. А что является мерилом народовластия? Права человека? Представьте, согласно Корану человек не обладает правами, у него только обязанность – выполнять волю Аллаха. В пределах выполнения этих обязанностей кто он: раб или свободный человек? Перед Аллахом он действительно раб. А в остальном? Как он ощущает себя в пространстве декларированной несвободы? Ответа нет. Сегодня мы можем с определенностью сказать только то, что россиянин не справляется с демократией, то есть с тем уровнем социальной активности и ответственности, который она на него налагает.Когда верхи не могут, а низы не хотят
– Можно ли вычислить, через какой промежуток времени кризис повторится в той или иной отдельно взятой стране?
– Формулу цикличности люди пытались отыскать в разные времена. Можно начать с Фукидида, который говорил о повторяемости событий в силу свойств человеческой натуры: возникает экстремальная ситуация, и люди спонтанно реагируют на нее – эмоционально, панически, отчаянно, но в рамках сложившихся культурных стереотипов. На этой основе можно делать прогнозы. Возможно, так поступал Нострадамус, сознательно напуская туману, чтобы его не сочли посланцем дьявола. Я никогда предсказаниями не занимался. Но сейчас ситуация такова, что с большой вероятностью можно говорить о том, что мы бодро идем к очередному кризису.
– А разве мы еще не в нем?
– Это будет окончательно ясно лет через сто. Сейчас же мы пока не можем понять, то ли живем по-прежнему, как в Советском Союзе, то ли пытаемся преодолеть совершенно новые напасти. Не понимаем, потому что мерилом стабильности у нас является государство. Если власть устойчива, вроде бы все хорошо. Но что такое стабильность власти, лишенной моральной поддержки снизу? В 1913 г. не только российские министры, но и западные наблюдатели говорили, что у России великое будущее: к 1940 году страну будут населять более 300 млн. населения, она станет величайшей державой Европы. Все опирались на валовые показатели развития, полагая, что те будут сохраняться. Что случилось на самом деле, мы знаем… Так что прогноз – пустое занятие.
– Каждый человек, окончивший советскую среднюю школу, усвоил формулу о том, что революция – это когда «низы не хотят, а верхи не могут»… Но в последнее время чаще говорится о том, что этот «сорняк» можно запустить в страну искусственно. Как это сделал, например, американский профессор Джин Шарп, автор методики ненасильственного свержения власти, по учебникам которого вершились «цветные» революции. Но я вижу на вашем лице скептическую улыбку… А как же «арабская весна», внедренная Фейсбуком?
– А почему вы поверили, что арабские революции – это целиком и полностью дело рук госдепа? Старое дерево повалится само, скажем, от неожиданного дуновения ветра. Однако всегда найдется «мудрец», который заявит, что повалил его своими заклинаниями.
Вернемся к ленинскому определению революции: пресловутые верхи – низы. Это чисто психологический закон, характеризующий ситуацию системного кризиса. Его важнейший признак – то, что людей, довольных существующим порядком вещей, не остается. Еще в позапрошлом веке нечто подобное описал Салтыков-Щедрин. Все недовольны – даже те, кто успешно ворует и обогащается.
Теперь относительно вируса революции. Наверное, он есть. Только он запрятан внутри нас. Теоретически его можно активизировать извне, особенно в наш информационный век. Но не забывайте, что нормальный организм упорно сопротивляется всякой наносной заразе. Поэтому лучше ставить вопрос о степени сопротивляемости общества любым бациллам революции. Если же мы по привычке надеемся на барина, то бишь на государство, то внутренний иммунитет у нас заведомо ослаблен.
– Но можно ли нажать на некую кнопку, которая вызовет рост так называемых «малых возмущений»?
– Считается, что Первая мировая война началась с сараевского убийства. Это якобы и была та самая кнопка, триггер, спусковой крючок. Из тех шестерых молодых людей, которые готовили покушение, долгую жизнь прожил один. Он даже стал министром в правительстве Иосипа Броз Тито. На склоне лет его спросили: а если бы не было выстрелов, мир бы сохранился? Он ответил: произошло бы что-нибудь другое, и он все равно бы взорвался.
Толстой – не зеркало революции, а подстрекатель
– Вот что я еще давно хотела выяснить: весь курс русской литературы XIX века построен на нигилизме по отношению к государству. По сути, из нас растят бунтарей с четвертого класса средней школы. У вас этому объяснение есть?
– Вся русская литература – это сплошная моральная проповедь и сентенции о том, что все у нас устроено несправедливо. Русская литература для людей образованных стала предметом культа, она заменяла веру – ту казенную веру, которая стала неэффективной. Это небывалый феномен. Некоторые литературоведы прямо говорят, что Толстой – не просто зеркало русской революции, а своего рода невольный подстрекатель. И что русскую революцию целиком и полностью подготовила литература. В этом есть очень основательная доля истины. Не потому что литература звала на баррикады, хотя было и такое. А потому что убедила, что Россия пребывает в ненормальном состоянии.
– …О чем не уставала напоминать русская интеллигенция, которая подготовила русскую революцию, а потом сама же от нее пострадала.
– Откуда эта интеллигенция взялась? У нас все строится сверху вниз – государство в свое время осуществило так называемое закрепощение сословий. Ты дворянин? Служи. Ты крестьянин? Паши. Казак? Паши и служи. Если ты духовное лицо, служи так, как тебе велело государство. После указа о вольности дворянства появляется «лишний» (для государства) человек – те же Онегин, Печорин. Он может не служить, у него есть время подумать. И начал он думать. И додумался до копирования известных образцов. Строго говоря, интеллигенция последовала по пути, проложенному Петром I, отправлявшим талантливых недорослей за границу. Независимо мыслящий человек не был предусмотрен государственным «штатным расписанием». Требовалось лишь существо, слепо исполняющее приказы.
– Но почему этот «лишний» человек неизбежно приходит к желанию разрушить существующий строй и нагадить своему государству? Как Герцен с его «Колоколом». Или Петр Долгоруков, градус ненависти которого к России поражал даже Герцена. Почему у нас на каждом историческом витке возникает армия таких долгоруковых и герценов?
– Из этих неизбежных маргиналов рано или поздно складывается сообщество, агрессивное изнутри. Пока у них есть общая цель – борьба с деспотизмом (реальным или воображаемым) – они более или менее при всех внутренних склоках работают в одном направлении. Оказавшись же у власти, они начинают друг друга поедать. Это не просто агрессивная, это самодеструктивная среда. К тому же всякая полицейская государственность провоцирует появление диссипативных, то есть, попросту говоря, отвязанных личностей. Посмотрите, сколько среди большевиков было представителей дворянства, сколько среди социалистов было выходцев из духовного сословия. Они, по сути дела, поменяли веру казенную на живую, как им казалось. В результате их утопия, апеллирующая к будущему, сомкнулась с народной утопией, апеллировавшей к не менее «светлому» прошлому. Результат известен.
Большая деревня
– Видите ли вы сейчас признаки революционной ситуации?
– Даты революции никто никогда не знает. Хотя, когда революция висит в воздухе (а именно такое ощущение появилось накануне 1917 года), общество может запрограммировать себя на определенный срок. Однако назначить «день Х» вряд ли возможно.
– Но позвольте мне перечислить составляющие кризиса, которые вы сами же ранее и сформулировали. Этическая (появляются разоблачители – Хрущев, Солженицын, Навальный). Политическая (совпадение кризисных ритмов, российского и мирового). Организационная (неспособность кормить народ во время кризиса). Социальная (передел собственности). И охлократическая (господство толпы). Что имеет отношение к современной ситуации в России?
– Всё. В разной последовательности. И ничего удивительного. Мы выстроили нынешнее государство таким образом, что зависим от цен на нефть. Если эти цены упадут, чего тогда будет ожидать, кроме дикого передела жалких остатков? И никакой Стабфонд не спасет. Точнее, спасет, но не всех. Что касается перечисленных составляющих системного кризиса, то они действуют и сегодня.
Все это вовсе не из области политических революций. О политике западного образца в России говорить не приходится. Термин «политика» ведет свою родословную от слова «полис». Это городская культура. А мы до сих пор, сами того не подозревая, при всей нашей внешней урбанизованности, пребываем в культуре сельской. Во времена сталинской индустриализации мы перетащили в город сельскую ментальность, которая пустила здесь глубокие корни.
– А в чем это проявляется сегодня?
– Можно сказать, что с помощью Интернета весь мир превращается в большую деревню. На одном конце чихнули – на другом комментируют. Ситуация словно специально рассчитана на инфантильных, эмоционально неустойчивых существ.
– Которыми мы и являемся…
– К сожалению, впрочем, не только мы одни. Организационная составляющая системного кризиса связана не просто с неэффективностью бюрократии, а с изменением пространства управления в экстремальной ситуации. Так, в годы Первой мировой войны одни российские территории находились под военным управлением, другие – под гражданским. Министерская чехарда, административная неэффективность, Распутин, бардак – все это становилось неизбежным. Правая рука не знала, что делает левая. Последовал социальный кризис – массы вышли на улицу со своими требованиями. А поскольку их растущие требования вполне удовлетворить было невозможно по объективным причинам, править бал начали маргиналы, сбивающиеся в толпы, причем вооруженные… Возник феномен охлократии (господства толпы. – Авт.). Думать о том, что в наше время подобное невозможно, неверно. Нынешние СМИ все охлократические атрибуты кризиса выложили на телеэкран или газетные страницы. Вспомните, что в 90-е годы писали в газетах, что можно было увидеть по телевизору. Сейчас то же самое продолжается в Интернете. Каков возможный итог? Обычно охлократия провоцирует деспотию. Найдутся ли в обществе силы, способные сегодня этому противостоять? Этого не знает никто.
– Что для России страшнее – авторитаризм или внешнее управление?
– Их нельзя разделять. Внешнее управление – это скорее метафора. Большевизм – это и есть внешнее управление, такое же, как варяги. Большевики вроде бы руководствовались Марксом, а всякие доктринеры заведомо ставят себя в уязвимое положение. Рано или поздно вера в «научную» доктрину перестает соответствовать реалиям. И тогда наступает очередная смута.
– Значит ли это, что ни одно поколение в России не имеет шансов прожить свой век без проблем?
– Будущее от нас скрыто. История в этом лишний раз убеждает. Этому же учат все мировые религии. Человек – это существо, которое лишено инстинктивной программы поведения. Поэтому ему важнее всего усвоить, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Потому взросление человечества – бесконечный процесс.
– Как вы думаете, как бы выглядел зал музея, посвященный нынешнему периоду российской истории? Чьи портреты украсили бы эти стены?
– Pussy Riot и Ксению Собчак я бы здесь размещать, конечно, не стал. Рядом с Путиным стоит посадить Медведева. Что касается оппозиционеров, я бы, пожалуй, представил здесь Сергея Удальцова. Есть в нем что-то идеалистическое. Горбачев у меня вызывает сложные эмоции. Но и его демонстрировать нужно. От Ельцина тоже никуда не денешься. Гайдар? Может быть. Ну не Кудрина же помещать. И не Касьянова…
– Подождите, какие еще Гайдар и Горбачев с Ельциным? Вы хотите сказать, что мы до сих пор находимся в том периоде истории, который называется «Развал СССР», а не на новом витке под именем «Снежная революция»?
– Именно. Человек меняется очень медленно, если меняется вообще. Каждый новый технологический рывок – это новые раскрытия неожиданностей его натуры. И если человек устал от Интернета, то не исключено, что ему захочется посидеть за настоящим пулеметом – вроде тех, что представлены в этом зале. Я не фантазирую, история постоянно напоминает нам именно о таких революционных метаморфозах. Мы просто должны научиться распознавать риски прошлого в нашей современности.
здесь